Они объясняли мне: «У тебя есть апельсин, так? Теперь ты разрезаешь этот апельсин на конечное количество кусочков, складываешь их обратно в апельсин, и он становится таким же большим как солнце. Истина или ложь?»
— Между кусочками нет пространства? — Нет.
— Невозможно! Такого просто не может быть.
— Ха! Попался! Идите все сюда! Это теорема Того-то о безмерной мере!
И когда им кажется, что они поймали меня, я напоминаю им: «Но вы сказали апельсин! А апельсиновую кожуру невозможно разрезать на кусочки тоньше атомов».
— Но у нас есть условие непрерывности. Мы можем резать бесконечно!
— Нет, вы сказали апельсин, поэтому я принял, что вы имеете в виду настоящий апельсин.
Так что я всегда выигрывал. Если я угадывал — здорово. Если не угадывал, то всегда мог найти в их упрощении что-то, что они упускали из виду.
Ричард Фейнман. «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!»
Пролог
Так получилось, что с самого детства я увлекаюсь занимательными задачами. Решал я их, как правило, хорошо и быстро, хотя не обходилось и без курьезов. Например, на олимпиаде по математике за седьмой класс, куда я попал, будучи в шестом, была задача: найти такой-то угол в треугольнике, обладающем такими-то свойствами. Мои познания в области геометрии были на тот момент весьма отрывочны, однако кое на что их всё же хватило. Недолго думая, я построил этот треугольник в тетради с помощью циркуля и линейки, а затем измерил нужный угол транспортиром. Это было практически как в том анекдоте про «найдите икс», когда ученик ткнул в букву «x» пальцем с радостным криком «вот он!».


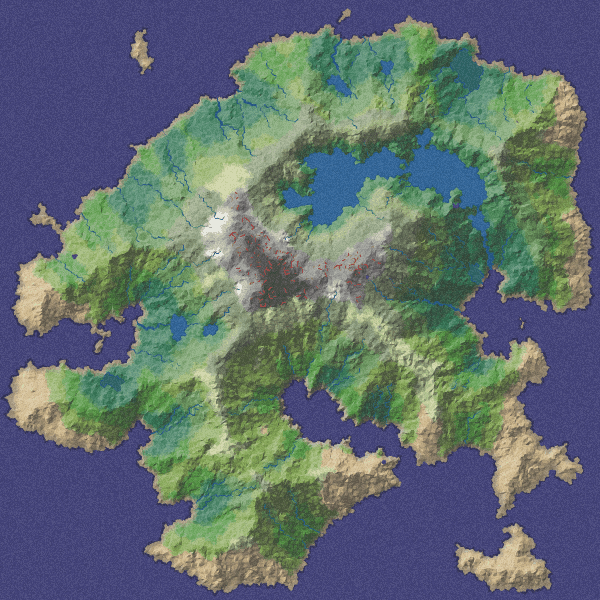


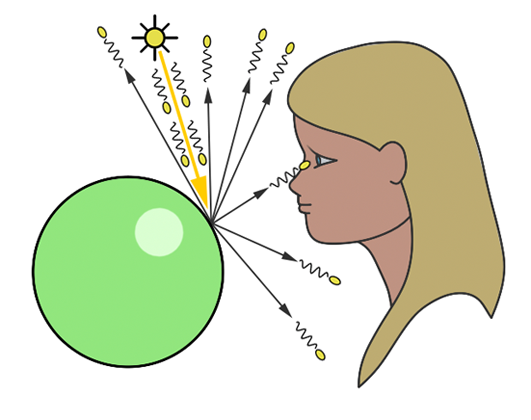


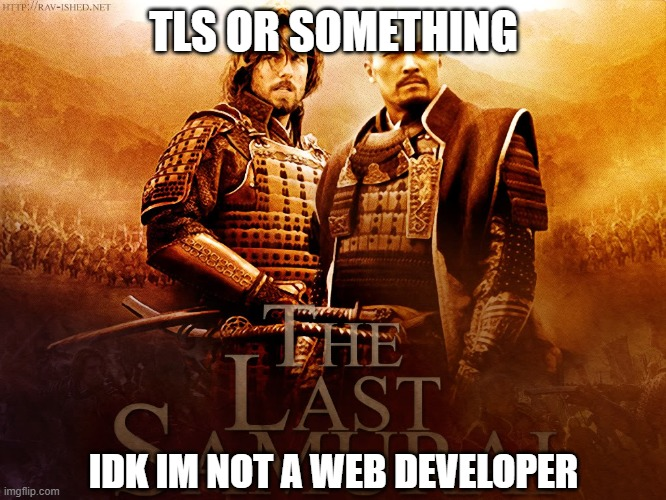


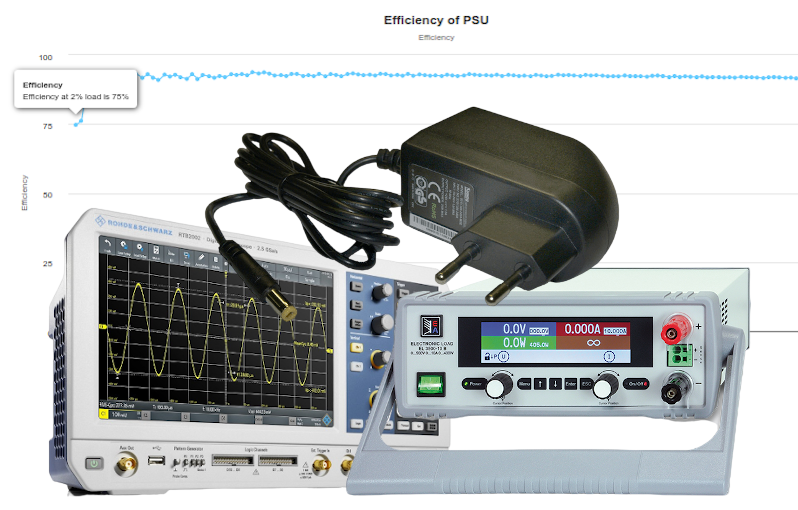
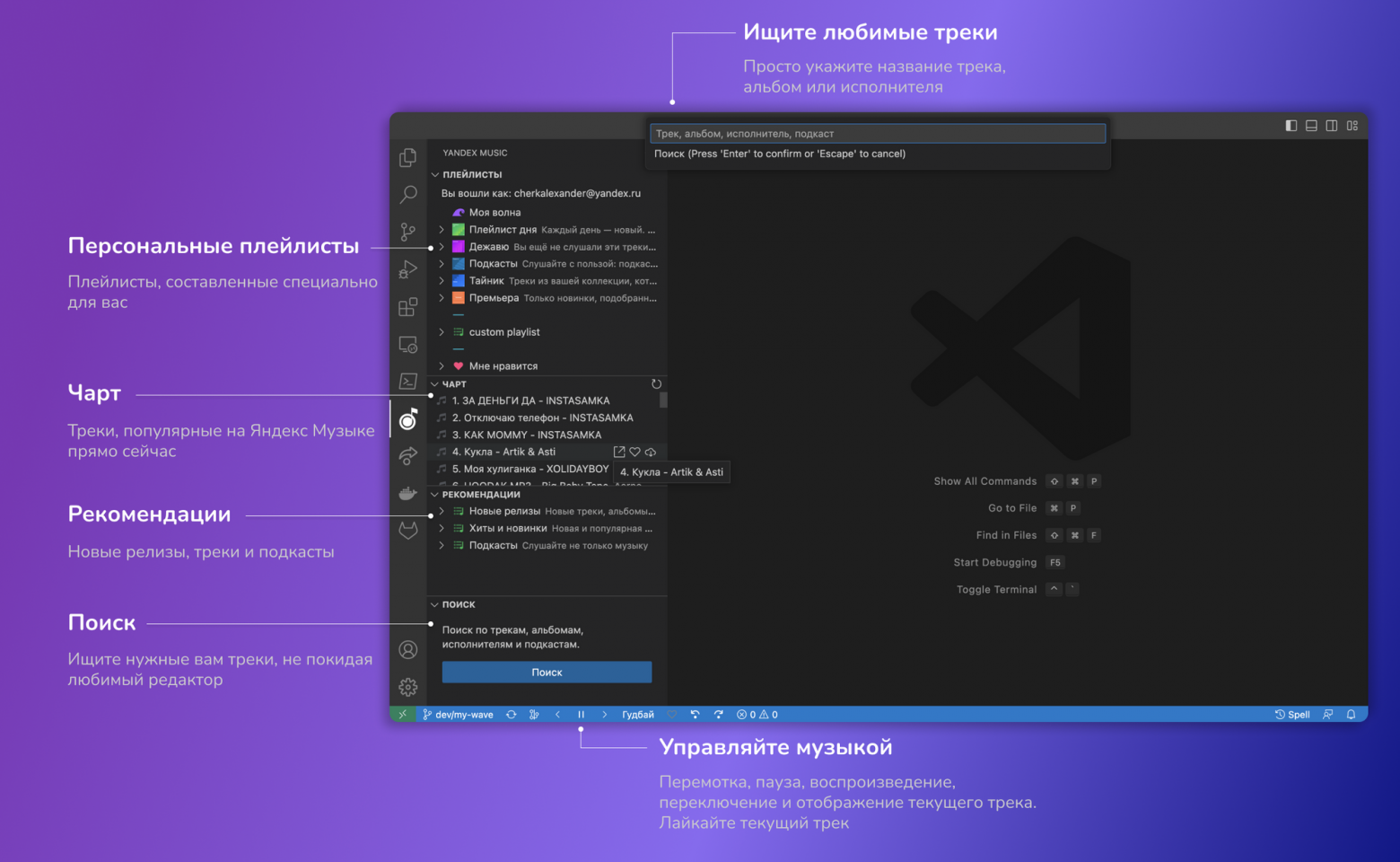


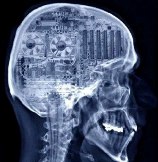 Само наличие психологической деформации у какой-либо профессии, как правило, достаточно спорный момент ввиду того, что у разных людей она проявляется по-разному. Однако общую тенденцию можно выделить и, пожалуй, настало то время когда можно достаточно смело говорить, что программисты всё же имеют свой особенный психологический портрет который обусловлен их профессиональной деятельностью.
Само наличие психологической деформации у какой-либо профессии, как правило, достаточно спорный момент ввиду того, что у разных людей она проявляется по-разному. Однако общую тенденцию можно выделить и, пожалуй, настало то время когда можно достаточно смело говорить, что программисты всё же имеют свой особенный психологический портрет который обусловлен их профессиональной деятельностью.