Экономические систем весьма устойчивы, исключительно адаптивны и чрезвычайно сложны. Их сетевая природа позволяет как сохранять определенную долгосрочную стабильность, так и перестраиваться в краткосрочном периоде под новые вызовы. Иногда правда с кризисными последствиями для целого ряда экономических субъектов. Взаимозависимые действия множества участников под влиянием внешних и внутренних факторов формируют текущую ситуацию и тренды на будущее. Это в очередной раз было продемонстрировано в условиях пандемии коронавируса. Но есть несколько важных вещей, которые обострились в этот период и которые запустили быстрые и мощные механизмы перестройки экономических систем и не только локально, но и во многом – глобально.

Осознание кардинальности тех изменений, которые произошли в предельно короткие сроки, заставляет всё большее число экспертов пытаться разобраться в грядущих последствиях для разных индустрий, для разных социальных групп и в целом для экономик и систем государственного управления разных стран. Например, мнение ведущего экономиста Всемирного экономического форума Роберто Кротти. Он высказывается о том, что на фоне массового перехода к цифровым технологиям из-за глобального карантина произойдет толчок цифровизации, который выльется в Четвертую индустриальную революцию. Попробуем чуть предметней посмотреть на эту ситуацию, принимая во внимание те вещи, которые уже находят отражение в деятельности различных экономических субъектов.
Несколько заметок и несколько гипотез.
Оценка возможных последствий всегда непростая задача. Особенно в подобных условиях быстрых существенных изменений, если не сказать катастрофичных. Но она имеет определенный смысл, потому что позволяет подумать о будущем и как-то подготовиться к ситуации, когда кризисные факторы начнут отступать, а необходимость скорого возвращения к нормальной деятельности останется. Хотя это, безусловно, будет далеко не возвращение к тому, что мы ещё несколько месяцев назад называли «нормальной деятельностью».
С одной стороны, мы имеем дело с длительными трендами. И их достаточно сложно переломить в краткосрочном периоде, учитывая инерционность. Но, с другой стороны, именно масштабность и сложность ситуации в предельно короткие сроки закладывает принципиально новые сущности, движущие факторы, знания, компетенции, модели поведения и понимания. В этих условиях важно не только корректно разбирать действующие длительные траектории развития и среднесрочные тренды, но и успеть заметить сильные изменения, которые пока имеют место в предельно малом периоде. А может даже посмотреть на перспективу, как развернется то, что в столь короткий срок нашло свое место и закрепилось в экономике, в управлении бизнесом, на рынках, в государственном секторе, в социальной сфере. Определенную трудность, конечно, представляет задача анализа совокупного развития трендов и оценки того, насколько сильным станет синергетический эффект.
При всех рассуждениях не будем забывать, что конкурентное преимущество зачастую находят не в универсальных, общепризнанных, стандартных, досконально изученных и проверенных теориях и оптимизированных практиках. Успешными становятся новые решения, которые удается увидеть там, где их ещё до этого никто не опознал и не реализовал. Для гипотез относительно развития той или иной ситуации (экономической, отраслевой, технологической, потребительской) это также имеет место. У прогнозов, особенно тех, что рождаются в период повышенной турбулентности, достаточно низкая вероятность реализации. Но при этом именно они могут содержать весьма полезные идеи для развития и обозначать предпосылки, на которые порой стоит обратить внимание, когда идет структурная перестройка глобальной экономики.

До некоторого времени, а если точнее, то ещё в далеком и спокойном 2019 году, можно было услышать вполне обоснованное мнение, что ряд стран имеет достаточно «низкую экономико-технологическую базу». Это позволяло в дальнейшем рассчитывать на то, что за счет постепенного разогрева ситуации на внутреннем рынке и за счет активной экспортной политики можно в перспективе обойти глобальных лидеров. Но вроде бы становится понятным, что сильнейший удар по экономическому росту, который нанесло резкое снижение промышленной и деловой активности, привел фактически к нивелированию этого самого эффекта н��зкой базы. Она теперь низкая у всех. Во всяком случае она достаточно снизилась у большинства экономик и отдельных бизнесов, чтобы с неё уверенно в дальнейшем начать рост, показав неплохие темпы развития. Безусловно, в выигрыше те, у кого был накоплен определенный резерв к началу кризиса. Однако сейчас является крайне важным максимально эффективно использовать такой резерв на периоде до окончания действия неблагоприятных факторов. И немного оставить, чтобы было на что запустить новый этап развития в последующем.
Кроме выравнивания экономической базы, похоже критическая ситуация ускорила и без того грядущие в условиях новой промышленной революции структурные изменения на рынке труда. Они неизбежно последовали вслед за вынужденными мерами по прекращению работы ряда производств, по резкому сокращению транспортного сообщения и логистических потоков, по усилению внимания к отдельным жизненно важным сегментам рынка, по поддержке уязвимых категорий бизнеса и граждан и т.п. Неизбежно в период принятия чрезвычайных мер столь высокого уровня были запущены структурные изменения в потреблении. Как на уровне отдельных домохозяйств, так и на уровне государств целом – что отразилось на фактических бюджетах и как следствие на финансовых рынках. И можно прийти к выводу, что и структура экономических ресурсов (по всей цепочки от получения до использования) также начала существенно меняться. Инерционные попытки вернуть её к «устаревшей нормали» на какое-то время могут лишь компенсировать шоковое состояние.
Во всей этой критической сложности представляется интересным отметить, что восстановление деловой активности и создание новых рабочих мест будет теперь больше ориентировано на платформенные решения и цифровые технологии. Бизнес имеет не только объективные доказательства потенциала цифровой трансформации, но и в ряде случаев просто вынужден, как минимум хотя бы в резерве, иметь определенный стек информационно-коммуникационных технологий нового уровня на базе инфраструктуры цифровых платформ. Разумно предположить ещё большую роботизацию, ещё большую гибкость и оперативность в принятии решений и в реализации принятых решений. Отчетливо просматривается необходимость перераспределения инвестиционных потоков в наукоемкие отрасли, что неизбежно приведет к переоценке затрат на рутинные операции и мало��начимые трансакции. Таким образом создаются предпосылки для системного и методического подхода к реинжинирингу традиционных и инновационных бизнес-моделей по всей совокупности процессов, событий, проектов, целей, компетенций и ресурсов. Невероятно, чтобы испытываемый сегодня мировой экономикой шок не прошел бесследно для системы потребления и тех ценностей, которые лежат в её основе.
Если оценивать и выделять отраслевые приоритеты развития пост-коронавирусной мировой экономики, то можно остановиться на следующих трёх.
Важнейшая отрасль, которая в очередной раз подтвердила свою критическую значимость. До недавнего времени она планомерно подходила к экосистемной цифровой трансформации. Множество цифровых проектов, как в части аппаратной и особенно в части программной составляющих в индустрии заботы о здоровье находили своих потребителей. Теперь же можно прогнозировать ещё больший рост инвестиций во всё, что связано с этой отраслью и ещё большую активность различных игроков: от новых стартапов и до крупных транснациональных корпораций. Но что можно ожидать нового – это выстраивание на уровне индустрии здравоохранения в целом и по отдельным её узким сегментам цифровых экосистем, регулируемых государством.
Дистанционный формат обучения сработал как индикатор предстоящих кардинальных изменений. И возможно здесь в приоритете будет не только цифровая трансформация самой индустрии образования, а именно максимальное сокращение разрыва между наукой и образование, между образованием и практической деятельностью. Что, на самом деле, заставляет значительно пересмотреть сам подход и принципы научной и образовательной деятельности. Придется найти новые инструменты акселерации научных исследований и разработок, новые инструменты трансфера знаний в практику посредством наращивания компетенций, перехода к другому уровню системы разделения труда, разработки и внедрения новых управленческих технологий.
Кризисная ситуация показала, насколько важно общение, как людей между собой, так и правильное взаимодействие между государственными структурами, коммерческими и некоммерческими организациями. Иногда от этого может зависеть очень многое для многих участников, а иногда для некоторых участников от этого может зависеть всё. Информационные потоки социального взаимодействия теперь представляют из себя и определенные проблемы для государственного регулирования. Но гораздо важнее научится эффективным коммуникациям с целевыми аудиториями в цифровом пространстве. И такие факторы как доверие, субъективность, релевантность, доступность, авторитетность, эмоциональность, адекватность игнорировать в дальнейшем уже будет просто опасно. Собственно, про это стало уже понятно после нескольких ярких событий неудачного общения чиновников с гражданами в прошлом году. Но ситуация обостряется и подчеркивает серьезную значимость этого направления.
Из сквозных для большинства индустрий, секторов государственного управления и направлений социальной сферы можно отметить, например, следующие приоритеты развития.
Сложная и долгая задача, которая напрямую связана и с информационными инструментами, и с управленческими технологиями, и с организационной культурой, и с усилением фактора специализации, и с наработкой новых компетенций. Но придется её пройти быстро и динамично, если по срокам сравнивать с тем, сколько это занимало на предыдущих этапах экономического развития. Основная цель – это способность не просто разово переформатировать часть бизнеса под новые потребности рынка, а способность делать это постоянно, эффективно, быстро и зачастую в отношении целого бизнеса или даже нескольких связанных между собой бизнесов. Что напрямую указывает на экосистемную зависимость, которая будет дальше только усиливаться, но и стабилизироваться благодаря цифровым платформам.
Ускорить создание и развитие цифровых пространств на уровне государств или создание и развитие цифровых экосистем на уровне индустрий, а цифровых платформ на уровне отдельных бизнесов крайне сложно, если не предлагать принципиально новые решения в сфере разработки программного обеспечения. Здесь требуется резкое снижение затрат на разработку кода и моделей данных, на сбор данных и функционала, на отладку и тестирование, на доставку решений до конечных пользователей, на сбор обратной связи и её отработку. Все предпосылки для этого сложились, а дефицит ИТ-специалистов только подчеркивает актуальность задачи. Дальнейшее активное цифровое развитие напрямую обуславливает востребованность решений этого класса. Оно до некоторой степени является новым качественным этапом комплексного развития таких направлений как метапрограммирование и роботизированная автоматизация процессов (RPA).
Но здесь может оказаться принципиальной специализация на целевом узком сегменте отрасли. Что, возможно, на каком-то этапе станет барьером для экосистемной интеграции множества платформенных решений. Но это на сегодня преодолимые ограничение, в сравнению со сложностью и длительность разработки единого платформенного решения в рамках отдельной отрасли.
Дефицит человеческого капитала в условиях значительных структурных изменений должен немного сместить фокус от требований к соискателю, к требованиям по включению и вовлечению профессионала в командную работу. Иными словами, можно спрогнозировать кардинальный переход от ситуации, когда бизнес отбирал себе специалистов под имеющиеся проекты и задачи на выделенный бюджет, к ситуации, когда специалист сам выбирает себе проекты и задачи с приемлемой для него ценностью и компенсационным пакетом. Причем речь идет не просто о каком-то узком сегменте рынка труда, а о переходе в эту новую реальность большей части рынка труда. Это долгосрочный и постепенный тренд, учитывая высокую инерционность подобного рода отношений.
Другая сторона подлинной персонализации для бизнеса – это потребители. Они всё больше и больше ожидают по-настоящему индивидуального подхода. Ожидают максимально быстрого в освоении и удобного аппаратного и программного решения. Их мало заботят трудности бизнеса в разработке и продвижении цифровых продуктов и сервисов, их мало интересует архитектурная сложность и итеративность релизов. Но зато критически значимыми требованиями с их стороны становятся безопасность, оперативность, надежность и т.п.
В подобных условиях опираться на мнения о том, что цифровая трансформация не произойдет, пока люди не изменяться, может быть несколько некорректным. Возможно, цифровая трансформация как раз про то, что потребителя не будут вынуждать в ущерб своим интересам, потребностям и психофизиологическим особенностям, подстраиваться под предлагаемые товары или услуги, пользоваться неудобными устройствами и программами. И возможно, цифровая трансформация как раз про то, что профессионалы не будут пытаться работать на неинтересных проектах и в неэффективных командах. Этап цифровой трансформации как раз может и отличаться тем, что дает шанс выстроить иную экономическую систему, не заставляя людей превращаться в то, чем они не хотят и не должны быть. Не должно ли теперь всё начать (с низкой базы) меняться ориентируясь на людей и стать подлинно персональным. Просто надо уметь собирать и предлагать по-настоящему персональные решения клиентам, уметь собирать и управлять по-настоящему эффективными командами, в которых каждый высококвалифицированный специалист может реализовать свой уникальный потенциал. А не заставлять людей меняться и ожидать результатов этих изменений. Кажется, в этом и есть основной смысл маркетинга, который Филип Котлер обозначил как «вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена».
Это основное к чему придется привыкать каждому государству. Не просто расширение степени влияния отдельных стран на уровне экономики, политики, культуры. А проникновение в разные виды деятельности отдельных экономических субъектов, где бы они ни были. Воздействие не на уровне государственных отношений или органов, не на уровне дипломатических контактов или культурных событий. А прямой контакт от субъекта к субъекту, от потребителя к потребителю. Прямое влияние через идентификацию и авторизацию, через функциональные роли и уровни доступа, через персональный контент и медийные сообщения, через таргетированные цепочки активностей, через скрытые ограничения и лояльности. Контролировать традиционными способами без применения цифровых технологий на основе платформенных решений это практически невозможно. Слишком точное и четкое проникновение, слишком комплексное и высокотехнологичное воздействие. Ориентированное на каждый регион, город, улицу, дом, человека.
Сохранение государственного цифрового суверенитета потребует адекватного ответа. Создание собственного цифрового пространства, в виде сетевой структуры тесно интегрированных между собой индустриальных, секторных, социальных цифровых экосистем. Причем по большей части направлений, таких экосистем в которых происходит конкуренция за внимание потребителей. Достаточно сложная комплексная задача. Но только она позволяет выйти на траекторию опережающего развития. Что особенно может быть важно для отечественного экономического контура.
Требуется иной подход к системе нормативно-правового регулирования. Технологии позволяют начать процесс перехода к государственному алгоритмическому регулированию, а динамика изменений и демонстрация того, что в сегодняшних условиях дорога каждая минута, вынуждают поторопиться и с этим.
Одно из направлений, которое придется закрывать комплексно высокотехнологично и на государственном уровне – это система управления рисками. Глобальная и интегрированная по всем отраслям, секторам и сферам. Проникновение технологий и высокая связанность субъектов и событий вынуждает в комплексе объединять риски для последующего их мониторинга, предупреждения неблагоприятных событий, ликвидации последствий их воздействия и восстановления до нормального состояния. Недостаточно иметь, например, отдельные центры для работы по техногенным рискам, отдельно по экономическим или финансовым рискам, отдельно по природным рискам и отдельно по информационно-технологическим рискам. Теперь всё настолько пронизывает друг друга, что требуется четкое и эффективное интегрированное управление, но с обязательным привлечением профессионалов из каждого направления.
Государственное управление будет вынуждено постепенно переходить к гиперсервисной модели. Высокая связанность не просто отдельных жизненных ситуаций (сервисы) или их параллельно-последовательных событийно связанных цепочек (суперсервисы). Теперь другой комплексный подход к удовлетворению всего спектра взаимозависимых потребностей своих граждан, бизнес-структур и самих государственных органов всех уровней. Эффективное связывание потребностей между собой, их координация и балансировка, проактивность при множестве сценариев экономического и технологического развития. Задачи и технологии позволяют и заставляют смотреть на государственное управление взвешено, научно и системно, просчитывать и анализировать принятие решений, имплементировать быструю реализацию решений в цифровые экосистемы.
Обозначенная ранее проблема дефицита человеческого капитала окончательно уходит с микро на марко-уровень. За профессионалов вынуждены будут бороться уже не отдельные бизнесы или корпорации. За профессионалов будут бороться цифровые экосистемы. Удаленность – это безусловный фактор доступности знаний и компетенций для любой цифровой юрисдикции. Теперь удаленная работа – новая норма. И очень тяжело будет на государственном уровне контролировать не просто утечку носителей знаний и компетенций, а утечку самих знаний и компетенций.
И как следствие всех этих новых особенностей – принципиальная задача изменения формирования и развития профессиональных высокоэффективных команд в сфере государственного управления. В том числе выстраивание системы управления компетенциями, системы управления сетью проектов и полноценный осознанный комплексный переход к управляемому цифровому пространству.
Развитие платформенных решений и цифровых технологий усиливается и переходит уже от простых и восприимчивых рынков и сфер деятельности к сложным наукоемким и специализированным направлениям. От случайных и разовых успешных проектов к системной и нарастающей по эффективности работе. От таксомоторных перевозок к управлению транспортными потоками в мегаполисе, от фитнес-трекеров к телемедицине, от курьерской доставки пиццы до роботов-поваров, черпающих вдохновение и рецепты в сети.
Фрагментарность и разнообразие с одновременной малозатратной интеграцией в цифровые экосистемы и цифровые пространства. Очевидная необходимость обеспечить не только взрывной рост специализированных платформенных решений и цифровых технологий, но и устойчивость текущую и перспективную, базовую и трансакционную эффективность, микросервисную гибкость и конструктивную конкуренцию (предоставляющую не только альтернативность, но и мультихоуминг).
Разовые и ручные решения похоже перестанут работать везде: в аналитике, в разработке, в технологиях, в инновациях. Они становятся слишком трудоемкими и дорогими. Требуется высокая степень автоматизации самих задач автоматизации. Что безусловно обостряет вопрос перехода на другой уровень системы разделения труда. И одновременно заставляет задуматься о новом качественном экосистемном подходе в реинжиниринге бизнес-моделей при вы��окой динамике постоянных изменений.
Экосистемность и интеграция постепенно выходят на первое место в ключевых приоритетах развития платформенных решений и цифровых технологий. Сетевые модели могут дать требуемую сегодня высокую скорость развития, обеспечивают сложность и реализуют принципы нового типа системы разделения труда. Проблем и вопросов на сегодняшний день ещё много: от технических и до потребительских. Но устойчивая тенденция просматривается здесь достаточно четко.
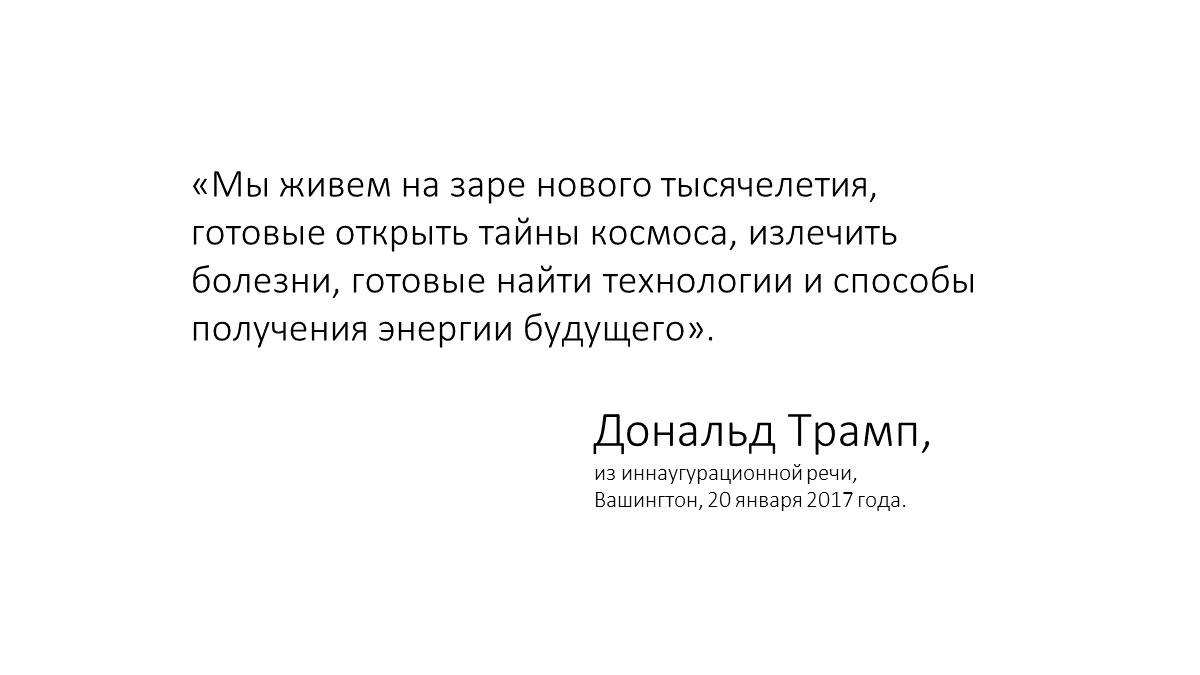
Есть вещи, которыми человек управлять не в силах. И их чрезвычайно много. К сожалению, самые критичные и болезненные относятся к их числу. Но появился очень неплохой шанс часть из них сделать более понятными и контролируемыми. Не все и не сразу. Но такой шанс дает цифровое развитие, которое позволяет активно создавать и развивать инструменты сетевого управления (платформенные решения) и цифровые технологии качественной обработки нарастающих информационных потоков.
Сегодня многие на низком старте.
Вопрос в том, кто выйдет в лидеры через 1 год, через 3 года, через 5 лет.

Осознание кардинальности тех изменений, которые произошли в предельно короткие сроки, заставляет всё большее число экспертов пытаться разобраться в грядущих последствиях для разных индустрий, для разных социальных групп и в целом для экономик и систем государственного управления разных стран. Например, мнение ведущего экономиста Всемирного экономического форума Роберто Кротти. Он высказывается о том, что на фоне массового перехода к цифровым технологиям из-за глобального карантина произойдет толчок цифровизации, который выльется в Четвертую индустриальную революцию. Попробуем чуть предметней посмотреть на эту ситуацию, принимая во внимание те вещи, которые уже находят отражение в деятельности различных экономических субъектов.
Несколько заметок и несколько гипотез.
Проблема
Оценка возможных последствий всегда непростая задача. Особенно в подобных условиях быстрых существенных изменений, если не сказать катастрофичных. Но она имеет определенный смысл, потому что позволяет подумать о будущем и как-то подготовиться к ситуации, когда кризисные факторы начнут отступать, а необходимость скорого возвращения к нормальной деятельности останется. Хотя это, безусловно, будет далеко не возвращение к тому, что мы ещё несколько месяцев назад называли «нормальной деятельностью».
С одной стороны, мы имеем дело с длительными трендами. И их достаточно сложно переломить в краткосрочном периоде, учитывая инерционность. Но, с другой стороны, именно масштабность и сложность ситуации в предельно короткие сроки закладывает принципиально новые сущности, движущие факторы, знания, компетенции, модели поведения и понимания. В этих условиях важно не только корректно разбирать действующие длительные траектории развития и среднесрочные тренды, но и успеть заметить сильные изменения, которые пока имеют место в предельно малом периоде. А может даже посмотреть на перспективу, как развернется то, что в столь короткий срок нашло свое место и закрепилось в экономике, в управлении бизнесом, на рынках, в государственном секторе, в социальной сфере. Определенную трудность, конечно, представляет задача анализа совокупного развития трендов и оценки того, насколько сильным станет синергетический эффект.
При всех рассуждениях не будем забывать, что конкурентное преимущество зачастую находят не в универсальных, общепризнанных, стандартных, досконально изученных и проверенных теориях и оптимизированных практиках. Успешными становятся новые решения, которые удается увидеть там, где их ещё до этого никто не опознал и не реализовал. Для гипотез относительно развития той или иной ситуации (экономической, отраслевой, технологической, потребительской) это также имеет место. У прогнозов, особенно тех, что рождаются в период повышенной турбулентности, достаточно низкая вероятность реализации. Но при этом именно они могут содержать весьма полезные идеи для развития и обозначать предпосылки, на которые порой стоит обратить внимание, когда идет структурная перестройка глобальной экономики.

Эффект низкой базы
До некоторого времени, а если точнее, то ещё в далеком и спокойном 2019 году, можно было услышать вполне обоснованное мнение, что ряд стран имеет достаточно «низкую экономико-технологическую базу». Это позволяло в дальнейшем рассчитывать на то, что за счет постепенного разогрева ситуации на внутреннем рынке и за счет активной экспортной политики можно в перспективе обойти глобальных лидеров. Но вроде бы становится понятным, что сильнейший удар по экономическому росту, который нанесло резкое снижение промышленной и деловой активности, привел фактически к нивелированию этого самого эффекта н��зкой базы. Она теперь низкая у всех. Во всяком случае она достаточно снизилась у большинства экономик и отдельных бизнесов, чтобы с неё уверенно в дальнейшем начать рост, показав неплохие темпы развития. Безусловно, в выигрыше те, у кого был накоплен определенный резерв к началу кризиса. Однако сейчас является крайне важным максимально эффективно использовать такой резерв на периоде до окончания действия неблагоприятных факторов. И немного оставить, чтобы было на что запустить новый этап развития в последующем.
Кроме выравнивания экономической базы, похоже критическая ситуация ускорила и без того грядущие в условиях новой промышленной революции структурные изменения на рынке труда. Они неизбежно последовали вслед за вынужденными мерами по прекращению работы ряда производств, по резкому сокращению транспортного сообщения и логистических потоков, по усилению внимания к отдельным жизненно важным сегментам рынка, по поддержке уязвимых категорий бизнеса и граждан и т.п. Неизбежно в период принятия чрезвычайных мер столь высокого уровня были запущены структурные изменения в потреблении. Как на уровне отдельных домохозяйств, так и на уровне государств целом – что отразилось на фактических бюджетах и как следствие на финансовых рынках. И можно прийти к выводу, что и структура экономических ресурсов (по всей цепочки от получения до использования) также начала существенно меняться. Инерционные попытки вернуть её к «устаревшей нормали» на какое-то время могут лишь компенсировать шоковое состояние.
Во всей этой критической сложности представляется интересным отметить, что восстановление деловой активности и создание новых рабочих мест будет теперь больше ориентировано на платформенные решения и цифровые технологии. Бизнес имеет не только объективные доказательства потенциала цифровой трансформации, но и в ряде случаев просто вынужден, как минимум хотя бы в резерве, иметь определенный стек информационно-коммуникационных технологий нового уровня на базе инфраструктуры цифровых платформ. Разумно предположить ещё большую роботизацию, ещё большую гибкость и оперативность в принятии решений и в реализации принятых решений. Отчетливо просматривается необходимость перераспределения инвестиционных потоков в наукоемкие отрасли, что неизбежно приведет к переоценке затрат на рутинные операции и мало��начимые трансакции. Таким образом создаются предпосылки для системного и методического подхода к реинжинирингу традиционных и инновационных бизнес-моделей по всей совокупности процессов, событий, проектов, целей, компетенций и ресурсов. Невероятно, чтобы испытываемый сегодня мировой экономикой шок не прошел бесследно для системы потребления и тех ценностей, которые лежат в её основе.
Приоритеты развития
Если оценивать и выделять отраслевые приоритеты развития пост-коронавирусной мировой экономики, то можно остановиться на следующих трёх.
Здравоохранение
Важнейшая отрасль, которая в очередной раз подтвердила свою критическую значимость. До недавнего времени она планомерно подходила к экосистемной цифровой трансформации. Множество цифровых проектов, как в части аппаратной и особенно в части программной составляющих в индустрии заботы о здоровье находили своих потребителей. Теперь же можно прогнозировать ещё больший рост инвестиций во всё, что связано с этой отраслью и ещё большую активность различных игроков: от новых стартапов и до крупных транснациональных корпораций. Но что можно ожидать нового – это выстраивание на уровне индустрии здравоохранения в целом и по отдельным её узким сегментам цифровых экосистем, регулируемых государством.
Образование
Дистанционный формат обучения сработал как индикатор предстоящих кардинальных изменений. И возможно здесь в приоритете будет не только цифровая трансформация самой индустрии образования, а именно максимальное сокращение разрыва между наукой и образование, между образованием и практической деятельностью. Что, на самом деле, заставляет значительно пересмотреть сам подход и принципы научной и образовательной деятельности. Придется найти новые инструменты акселерации научных исследований и разработок, новые инструменты трансфера знаний в практику посредством наращивания компетенций, перехода к другому уровню системы разделения труда, разработки и внедрения новых управленческих технологий.
Социальные коммуникации
Кризисная ситуация показала, насколько важно общение, как людей между собой, так и правильное взаимодействие между государственными структурами, коммерческими и некоммерческими организациями. Иногда от этого может зависеть очень многое для многих участников, а иногда для некоторых участников от этого может зависеть всё. Информационные потоки социального взаимодействия теперь представляют из себя и определенные проблемы для государственного регулирования. Но гораздо важнее научится эффективным коммуникациям с целевыми аудиториями в цифровом пространстве. И такие факторы как доверие, субъективность, релевантность, доступность, авторитетность, эмоциональность, адекватность игнорировать в дальнейшем уже будет просто опасно. Собственно, про это стало уже понятно после нескольких ярких событий неудачного общения чиновников с гражданами в прошлом году. Но ситуация обостряется и подчеркивает серьезную значимость этого направления.
Из сквозных для большинства индустрий, секторов государственного управления и направлений социальной сферы можно отметить, например, следующие приоритеты развития.
Изменение системы разделения труда
Сложная и долгая задача, которая напрямую связана и с информационными инструментами, и с управленческими технологиями, и с организационной культурой, и с усилением фактора специализации, и с наработкой новых компетенций. Но придется её пройти быстро и динамично, если по срокам сравнивать с тем, сколько это занимало на предыдущих этапах экономического развития. Основная цель – это способность не просто разово переформатировать часть бизнеса под новые потребности рынка, а способность делать это постоянно, эффективно, быстро и зачастую в отношении целого бизнеса или даже нескольких связанных между собой бизнесов. Что напрямую указывает на экосистемную зависимость, которая будет дальше только усиливаться, но и стабилизироваться благодаря цифровым платформам.
Автоматизация автоматизации
Ускорить создание и развитие цифровых пространств на уровне государств или создание и развитие цифровых экосистем на уровне индустрий, а цифровых платформ на уровне отдельных бизнесов крайне сложно, если не предлагать принципиально новые решения в сфере разработки программного обеспечения. Здесь требуется резкое снижение затрат на разработку кода и моделей данных, на сбор данных и функционала, на отладку и тестирование, на доставку решений до конечных пользователей, на сбор обратной связи и её отработку. Все предпосылки для этого сложились, а дефицит ИТ-специалистов только подчеркивает актуальность задачи. Дальнейшее активное цифровое развитие напрямую обуславливает востребованность решений этого класса. Оно до некоторой степени является новым качественным этапом комплексного развития таких направлений как метапрограммирование и роботизированная автоматизация процессов (RPA).
Но здесь может оказаться принципиальной специализация на целевом узком сегменте отрасли. Что, возможно, на каком-то этапе станет барьером для экосистемной интеграции множества платформенных решений. Но это на сегодня преодолимые ограничение, в сравнению со сложностью и длительность разработки единого платформенного решения в рамках отдельной отрасли.
Подлинная персонализация
Дефицит человеческого капитала в условиях значительных структурных изменений должен немного сместить фокус от требований к соискателю, к требованиям по включению и вовлечению профессионала в командную работу. Иными словами, можно спрогнозировать кардинальный переход от ситуации, когда бизнес отбирал себе специалистов под имеющиеся проекты и задачи на выделенный бюджет, к ситуации, когда специалист сам выбирает себе проекты и задачи с приемлемой для него ценностью и компенсационным пакетом. Причем речь идет не просто о каком-то узком сегменте рынка труда, а о переходе в эту новую реальность большей части рынка труда. Это долгосрочный и постепенный тренд, учитывая высокую инерционность подобного рода отношений.
Другая сторона подлинной персонализации для бизнеса – это потребители. Они всё больше и больше ожидают по-настоящему индивидуального подхода. Ожидают максимально быстрого в освоении и удобного аппаратного и программного решения. Их мало заботят трудности бизнеса в разработке и продвижении цифровых продуктов и сервисов, их мало интересует архитектурная сложность и итеративность релизов. Но зато критически значимыми требованиями с их стороны становятся безопасность, оперативность, надежность и т.п.
В подобных условиях опираться на мнения о том, что цифровая трансформация не произойдет, пока люди не изменяться, может быть несколько некорректным. Возможно, цифровая трансформация как раз про то, что потребителя не будут вынуждать в ущерб своим интересам, потребностям и психофизиологическим особенностям, подстраиваться под предлагаемые товары или услуги, пользоваться неудобными устройствами и программами. И возможно, цифровая трансформация как раз про то, что профессионалы не будут пытаться работать на неинтересных проектах и в неэффективных командах. Этап цифровой трансформации как раз может и отличаться тем, что дает шанс выстроить иную экономическую систему, не заставляя людей превращаться в то, чем они не хотят и не должны быть. Не должно ли теперь всё начать (с низкой базы) меняться ориентируясь на людей и стать подлинно персональным. Просто надо уметь собирать и предлагать по-настоящему персональные решения клиентам, уметь собирать и управлять по-настоящему эффективными командами, в которых каждый высококвалифицированный специалист может реализовать свой уникальный потенциал. А не заставлять людей меняться и ожидать результатов этих изменений. Кажется, в этом и есть основной смысл маркетинга, который Филип Котлер обозначил как «вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена».
Другое цифровое государственное управление
Сверхглобальность цифровой экономики
Это основное к чему придется привыкать каждому государству. Не просто расширение степени влияния отдельных стран на уровне экономики, политики, культуры. А проникновение в разные виды деятельности отдельных экономических субъектов, где бы они ни были. Воздействие не на уровне государственных отношений или органов, не на уровне дипломатических контактов или культурных событий. А прямой контакт от субъекта к субъекту, от потребителя к потребителю. Прямое влияние через идентификацию и авторизацию, через функциональные роли и уровни доступа, через персональный контент и медийные сообщения, через таргетированные цепочки активностей, через скрытые ограничения и лояльности. Контролировать традиционными способами без применения цифровых технологий на основе платформенных решений это практически невозможно. Слишком точное и четкое проникновение, слишком комплексное и высокотехнологичное воздействие. Ориентированное на каждый регион, город, улицу, дом, человека.
Государственный цифровой суверенитет
Сохранение государственного цифрового суверенитета потребует адекватного ответа. Создание собственного цифрового пространства, в виде сетевой структуры тесно интегрированных между собой индустриальных, секторных, социальных цифровых экосистем. Причем по большей части направлений, таких экосистем в которых происходит конкуренция за внимание потребителей. Достаточно сложная комплексная задача. Но только она позволяет выйти на траекторию опережающего развития. Что особенно может быть важно для отечественного экономического контура.
Нормативное регулирование
Требуется иной подход к системе нормативно-правового регулирования. Технологии позволяют начать процесс перехода к государственному алгоритмическому регулированию, а динамика изменений и демонстрация того, что в сегодняшних условиях дорога каждая минута, вынуждают поторопиться и с этим.
Система управления рисками
Одно из направлений, которое придется закрывать комплексно высокотехнологично и на государственном уровне – это система управления рисками. Глобальная и интегрированная по всем отраслям, секторам и сферам. Проникновение технологий и высокая связанность субъектов и событий вынуждает в комплексе объединять риски для последующего их мониторинга, предупреждения неблагоприятных событий, ликвидации последствий их воздействия и восстановления до нормального состояния. Недостаточно иметь, например, отдельные центры для работы по техногенным рискам, отдельно по экономическим или финансовым рискам, отдельно по природным рискам и отдельно по информационно-технологическим рискам. Теперь всё настолько пронизывает друг друга, что требуется четкое и эффективное интегрированное управление, но с обязательным привлечением профессионалов из каждого направления.
Гиперсервисная модель
Государственное управление будет вынуждено постепенно переходить к гиперсервисной модели. Высокая связанность не просто отдельных жизненных ситуаций (сервисы) или их параллельно-последовательных событийно связанных цепочек (суперсервисы). Теперь другой комплексный подход к удовлетворению всего спектра взаимозависимых потребностей своих граждан, бизнес-структур и самих государственных органов всех уровней. Эффективное связывание потребностей между собой, их координация и балансировка, проактивность при множестве сценариев экономического и технологического развития. Задачи и технологии позволяют и заставляют смотреть на государственное управление взвешено, научно и системно, просчитывать и анализировать принятие решений, имплементировать быструю реализацию решений в цифровые экосистемы.
Человеческий капитал
Обозначенная ранее проблема дефицита человеческого капитала окончательно уходит с микро на марко-уровень. За профессионалов вынуждены будут бороться уже не отдельные бизнесы или корпорации. За профессионалов будут бороться цифровые экосистемы. Удаленность – это безусловный фактор доступности знаний и компетенций для любой цифровой юрисдикции. Теперь удаленная работа – новая норма. И очень тяжело будет на государственном уровне контролировать не просто утечку носителей знаний и компетенций, а утечку самих знаний и компетенций.
И как следствие всех этих новых особенностей – принципиальная задача изменения формирования и развития профессиональных высокоэффективных команд в сфере государственного управления. В том числе выстраивание системы управления компетенциями, системы управления сетью проектов и полноценный осознанный комплексный переход к управляемому цифровому пространству.
Экосистемность и платформенные решения
Развитие платформенных решений и цифровых технологий усиливается и переходит уже от простых и восприимчивых рынков и сфер деятельности к сложным наукоемким и специализированным направлениям. От случайных и разовых успешных проектов к системной и нарастающей по эффективности работе. От таксомоторных перевозок к управлению транспортными потоками в мегаполисе, от фитнес-трекеров к телемедицине, от курьерской доставки пиццы до роботов-поваров, черпающих вдохновение и рецепты в сети.
Фрагментарность и разнообразие с одновременной малозатратной интеграцией в цифровые экосистемы и цифровые пространства. Очевидная необходимость обеспечить не только взрывной рост специализированных платформенных решений и цифровых технологий, но и устойчивость текущую и перспективную, базовую и трансакционную эффективность, микросервисную гибкость и конструктивную конкуренцию (предоставляющую не только альтернативность, но и мультихоуминг).
Разовые и ручные решения похоже перестанут работать везде: в аналитике, в разработке, в технологиях, в инновациях. Они становятся слишком трудоемкими и дорогими. Требуется высокая степень автоматизации самих задач автоматизации. Что безусловно обостряет вопрос перехода на другой уровень системы разделения труда. И одновременно заставляет задуматься о новом качественном экосистемном подходе в реинжиниринге бизнес-моделей при вы��окой динамике постоянных изменений.
Экосистемность и интеграция постепенно выходят на первое место в ключевых приоритетах развития платформенных решений и цифровых технологий. Сетевые модели могут дать требуемую сегодня высокую скорость развития, обеспечивают сложность и реализуют принципы нового типа системы разделения труда. Проблем и вопросов на сегодняшний день ещё много: от технических и до потребительских. Но устойчивая тенденция просматривается здесь достаточно четко.
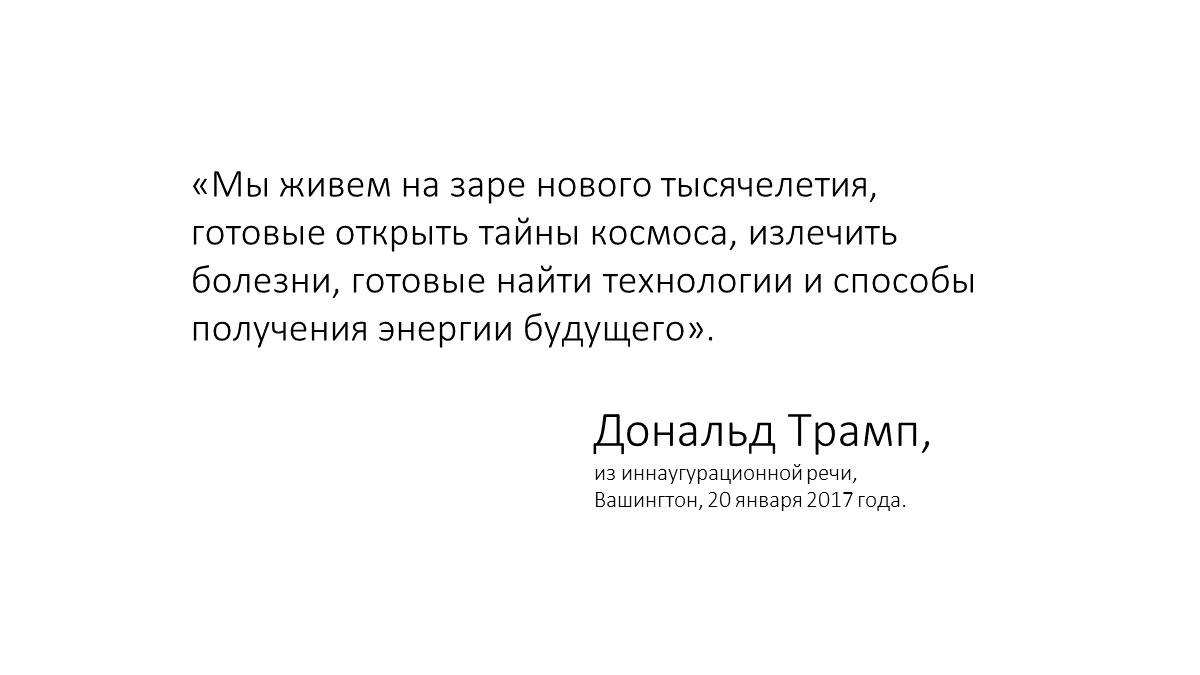
Есть вещи, которыми человек управлять не в силах. И их чрезвычайно много. К сожалению, самые критичные и болезненные относятся к их числу. Но появился очень неплохой шанс часть из них сделать более понятными и контролируемыми. Не все и не сразу. Но такой шанс дает цифровое развитие, которое позволяет активно создавать и развивать инструменты сетевого управления (платформенные решения) и цифровые технологии качественной обработки нарастающих информационных потоков.
Сегодня многие на низком старте.
Вопрос в том, кто выйдет в лидеры через 1 год, через 3 года, через 5 лет.
